Кто-то умер. В этом я уверен. Я знаю это, потому что я всегда это знаю. Когда я лежу здесь один в этой большой пустой кровати и слушаю дождь, я вспоминаю его, когда он возвращается ко мне, это чувство, этот страх, пробегающий вверх и вниз по моему горлу тысячью маленьких ножек. Это оседает у меня в животе, как огромный камень, твердая, тошнотворная тяжесть. Он прогорклый по своей тяжести и безошибочно узнаваемый по своей фамильярности. Кто-то умер. Я не знаю, кто это.
Я сажусь и делаю глубокий вдох, вытаскивая ноги из—под одеяла, чтобы они могли свисать над холодным деревянным полом, к которому я прижимаю ступни. Остатки облупившегося красного лака окрашивают мои пальцы. Я намеревалась покрасить их на этой неделе, но не смогла выбрать цвет. Мне говорили, что я плохо принимаю решения, слишком нервничаю, чтобы выбрать неправильное. Но я не думаю, что это правда. Кто-то другой просто всегда был рядом, чтобы сделать их от моего имени. Но я сделаю это сейчас.
Думаю, я позвоню своей дочери. Я иду к крайнему столику, чтобы забрать свои очки. Они криво сидят у меня на носу, и я возвращаю их на место, глядя на свой мобильный телефон, подключенный к стене. Я жду, когда он зазвонит. Я смотрю. Я ожидаю этого. Но это не так.
В свое время я сказала своему мужу, что мы должны оставить стационарные телефоны, один на кухне, а другой в спальне, на случай ураганов или отключения электричества. Но в этом не было никакого смысла, решил он, никакого смысла, когда у нас был семейный план, который был дорогим. Но, сидя сейчас здесь, я думаю, что, возможно, в этом был какой-то смысл, и, возможно, я недостаточно настойчиво настаивал.
В конце концов, человек не может заставить замолчать стационарные телефоны, не совсем так, как это делают мобильные телефоны ночью. Может быть, кто-то уже звонил мне, кто-то с самыми ужасными новостями, а я не слышал.
У Конни тоже нет стационарного телефона; возможно, она даже сейчас не отвечает. Или, что еще хуже, она может больше не быть в состоянии. Я вздрагиваю, поднимая устройство. Никаких пропущенных звонков. Я включаю звук и начинаю перебирать свои контактные линзы, щурясь в темноте.
Я думаю, Конни ответит. И она расстроится, что я зря ее разбудил. Она скажет, что дети спят и что она только что проверила, как они. Говард без сознания рядом с ней, и да, она уверена, уверена, на сто процентов уверена, что видит ритм его груди, вверх-вниз, вверх-вниз.
Он дышит. Он дышит, и утром у него работа. И поэтому мне действительно не следует беспокоить их так рано. Беспокоиться не о чем, и она скоро навестит меня. И мы сделаем все возможное вместе, мы вдвоем. Должно быть, это из-за бури, скажет она, буря выводит меня из себя.
Однако Конни всегда считала, что я слишком много волнуюсь. И, может быть, я так и делаю. Я кладу телефон обратно на стол.
Думаю, я не буду ей звонить. Мне не о чем беспокоиться. Телефон так и не зазвонил. Никто не звонил. И они всегда делают это так тактично, приглушенными голосами, как будто самая ужасная часть объявления - это пробуждение, о, извините, что побеспокоили вас, мэм.
Я снова смотрю на телефон. Я жду. Он не звонит. Я навожу на него руку. Но я не беру трубку, чтобы позвонить. Я не должен ее беспокоить. Но кто-то умер. В этом я уверен.
Мой отец умер, когда мне было шесть лет. Впервые я испытал это странное тошнотворное чувство, ощущение знания, когда лежал в кровати гораздо меньше этой — с изящным изголовьем из белого металла, выполненным в форме цветов. Я проснулась и уставилась в потолок, делая долгий, затрудненный вдох и натягивая тяжелое одеяло до подбородка, как я всегда делала, чтобы защититься от ветра, который мог наполнить эту комнату в зимние месяцы. От него задребезжали окна, и это потрясло меня, сотрясая все мои кости, когда я перевернулась, чтобы посмотреть на маленький сундук с игрушками в другом конце комнаты.
Его подарил мне какой-то дальний родственник, когда я был очень, очень молод, слишком молод, чтобы вспомнить вечеринку, но он стоял там столько, сколько я себя помню, как будто всегда существовал рядом со мной. Теперь она была надежно закрыта на ночь.
Но именно тогда впервые пришло ощущение, этот бесспорный, ужасный камень в моем пищеводе. Тихо, чтобы не потревожить родителей, я подтянулась, чтобы сесть на матрас, и, сползая на пол, дюйм за дюймом проползла через комнату, мои волосы свисали на лицо. Я останавливаюсь над коробкой с игрушками и смотрю на нее сверху вниз. И по причинам, которые я даже сейчас не осмеливаюсь назвать, я открыл крышку.
Я не знаю, как мой отец попал внутрь. Но я видел его выпученный, налитый кровью глаз, уставившийся на меня в темноте, остальные его распухшие черты были скрыты и погребены под беспорядком — кукла, чьи собственные шарнирные глаза сломались и навсегда открыты; волчок; плюшевый мишка из вельвета; набор кубиков. Глаза моего отца смотрели на меня снизу вверх. Он моргнул.
И, наконец, он произнес мое имя, его голос был хриплым, глухим, раздробленным звуком, произнесенным невидимыми губами из самых глубин его изуродованного горла: худший звук, который я когда-либо слышал.
“Кэсси”.
Я побежал. И с верхних перил, мое лицо было зажато между деревянными прутьями, я увидел свою мать, стоящую в прихожей, одетую в клетчатую ночную рубашку. Тогда она накрутила волосы на бигуди и, прижавшись к темной стене, оклеенной обоями, уставилась на телефон в нише у двери. Она уставилась на меня, а я уставился на ее пристальный взгляд. И теперь я знаю, что она знала, как и я знаю.
Но я думаю, что большинство людей могут это сказать, даже если они этого не осознают. Они улавливают это в холодном воздухе, в поздний час, в неестественном мерцании куска ткани, в этих крошечных признаках того, что что-то не так, что Вселенная изменилась.
Они создают в человеке, человеке, обладающем достаточным здравым смыслом, чтобы видеть, ужасное, гнетущее, тяжелое чувство. И, наконец, зазвонил телефон.
Некоторое время спустя моя мать нашла меня съежившимся у двери в мою спальню. Я не осмеливался вернуться внутрь, но я отступил туда, чтобы съежиться после нескольких минут прослушивания. Как она мне сказала, она курила сигарету - нервная привычка, которую люди тогда все еще имели в присутствии своих детей.
Но я, конечно, уже знал. Я знал, что мой отец умер. Позже я узнал, не от своей матери, что высокая промышленная полка на его складе рухнула, и он был погребен под ее содержимым. И я нашел его именно таким, погребенным в моей коробке с игрушками, каким-то гротескным призрачным видением, запечатленным, как грубый, размытый снимок момента его смерти.
Но его там не было, когда в ту ночь моя мать снова закрыла сундук. И он не вернулся. Чувство, однако, было там, это ужасное ощущение знания, осознание смерти. Я чувствовал это тогда, и я чувствую это сейчас.
Думаю, мне действительно стоит позвонить Конни. Я беру телефон, и когда я смотрю на него, мой палец нависает над замком. Но я не давлю на спуск. Я не должен беспокоить ее. Вместо этого я кладу устройство на место и встаю с кровати. Я встаю и, словно по принуждению, направляюсь к шкафу, огромному деревянному шкафу, стоящему прямо у окна, по которому все еще стучит дождь. Я смотрю на него и протягиваю руку. Но я колеблюсь.
Я колеблюсь, потому что думаю, что если открою его, то могу обнаружить, что кто—то смотрит на меня в ответ - сгнивший призрак, пришедший в гости, потому что, возможно, он не знал, куда еще идти. Я не соизволю знать мотивы разлагающихся призраков.
И я до сих пор, даже сейчас, не знаю, почему я видел своего отца в ту ночь, только то, что на его похоронах я плакал, потому что его снова посадили в ящик. И, может быть, в конце концов, так оно и было: душа искала ящик, в который ее можно было бы поместить, теперь, когда ее плотский контейнер освободил ее.
Набравшись смелости, я хватаюсь за золотые ручки. Мне нужно вернуться в постель. Я не должен был его открывать. Я не должен открывать его, потому что, если я это сделаю, я могу пожалеть об этом. Но если я не открою его, мне придется сидеть здесь, ждать и пялиться на телефон, пока он не зазвонит, что я, конечно, знаю.
И вот, закрыв глаза и запрокинув голову, чтобы не смотреть, я хватаюсь за ручки и тяну. Я дергаю, и шкаф открывается, но я не осмеливаюсь заглянуть. Я мысленно считаю до трех. И в глубине души я вижу Конни сейчас, думаю о ней как о ребенке, в красном платье, которое мы купили ей на Рождество. Я думаю, мне хотелось бы запомнить ее такой, а не такой, какой я помню своего отца — не как безликий, подбитый глаз в коробке.
Я поворачиваю голову назад. Я делаю еще один вдох. И я открываю глаза. Я вижу одежду, и только одежду, шкаф, полный блузок и платьев с рисунком, которые у меня так мало возможностей надеть. Но сейчас мне нужно будет выбрать что-нибудь черное для богослужений, я думаю, для тех, на которых мне придется присутствовать.
Но только не этот. Но, может быть, это, решаю я, протягивая руку, чтобы провести пальцами по краям темного платья с воротником и серебряными пуговицами на спине. Нет, может быть, и нет. Снова лезу в шкаф и достаю платье с низкой талией, на бедре вышита черная роза. Я могла бы носить его с длинной серебряной цепочкой, которую, по-моему, купил мне муж, с серебряными подвесками. Но, возможно, это было бы слишком броско, слишком смело для такого мрачного случая.
Нет, я думаю, что могла бы надеть его с жемчугом моей матери; он более сдержанный.
Я тоже знал это, когда она умерла. Но она не исчезла внезапно, нет, не так, как лампа, внезапно погасшая перед наступлением темноты. Ее собственный конец наступал постепенно, как угасающий отблеск заката, шаг за шагом, пока ночь не стала единственным естественным, ожидаемым завершением. Телефон зазвонил в середине дня в тот день, когда я складывала белье, чувствуя тяжесть осознания в животе.
В то утро в больнице нам сказали идти домой и отдыхать, и что они позвонят, если что-то изменится. Но что-то действительно изменилось, прежде чем они решили рассказать нам. В тот день я забрел на кухню и обнаружил, что Конни уже обмотала телефонный шнур вокруг локтя. И я знал наверняка.



















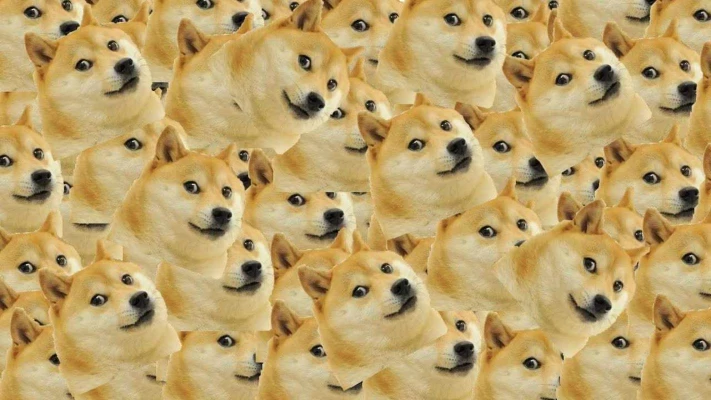












0